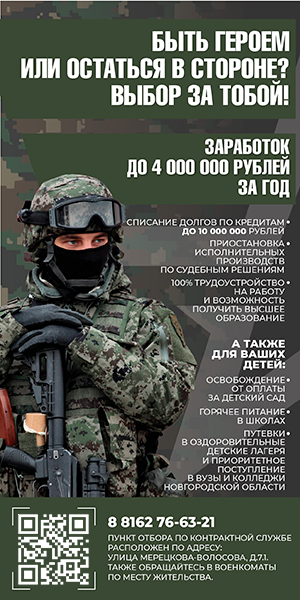Вчера в Музее изобразительных искусств в Великом Новгороде открылась выставка работ одного из старейших новгородских живописцев Дмитрия Кондратьева.
«Кондратьев пишет, как Бог на душу положит», — говорили о нем художники. Может быть, поэтому его творчество столь органично. Он выбрал удивительную для профессионального художника манеру письма, близкую примитиву. Но, будучи высокообразованным человеком (закончил Казанское художественное училище, затем Московский полиграфический институт), наполнил этот примитив мастерством и высокой философией.
Так и стоит перед глазами его полотно: художник, бережно держащий у груди каравай хлеба. И через него проходит вся дорога жизни. Главный в картине — пахарь со своей лошадкой…
Небольшого роста, слегка сутулый, с большой седой бородой, со смеющимися глазами — всем своим обликом он был похож на доброго сказочника. Во многих его живописных полотнах проступает будто неосознанная, даже генетическая связь с древнерусским искусством, иконописью, фресками древнего Новгорода. Но он чувствовал это по-своему, совершенно оригинально — боевито, наивно и серьезно изображая, например, Георгия Победоносца с поверженным им змеем или распятого Христа. Это были как бы «новые фрески», если бы их стал изображать сам простой народ.
Кондратьев удивительно ощущал трагизм мира деревни. Его персонажи — будто под каким-то прессом, все подневольные: и люди, и лошади, и коровы, и собаки. Разве что птицы смогли вырваться ввысь и почувствовать свободу. И то благодаря какой-то невидимой борьбе, судя по их неправильным, будто изломанным линиям крыльев, на которых и лететь-то в общем нельзя. Но летят. Лишь бы чувствовать полет и свободу. И все они — люди, кони, птицы — неизменно окружены, как ореолом, любовью художника, и это делает полотна Кондратьева незабываемыми.
Когда еще при жизни художника я спросила его жену Людмилу Дмитриевну, как ей живется с человеком нелегкого характера и еще более нелегкого труда, она улыбнулась: «Хорошо живется. Это, наверное, просто моя судьба. Именно судьба, жизнь. Такая мне послана».
Они прожили вместе 47 лет. Она — его «Птица добрая», которой он посвятил немало своих произведений. Изображал ее то богиней из греческой мифологии, то птицей, распахнувшей хрупкие, но сильные крылья над всем, что было так ему дорого: над вспаханной землей, церквушками, над деревенским домом с накрытым во дворе столом, на котором стоит крынка молока и большой каравай хлеба, вкуснее которого нет ничего на свете…
Теперь мы сидим с ней в его мастерской, где она пытается навести порядок, собрать и осмыслить всё его творческое наследство. Чтобы в скором времени вместе с его холстами, мольбертом, альбомами, какими-то милыми вещицами, привезенными из разных концов страны на память и для натюрмортов, оставить это его «пристанище» навсегда. Так полагается: художникам не хватает мастерских. Хотя как всё это, плотно стоящее сейчас в мастерской, сможет поместиться в их квартире? «Часть подарю друзьям, родным и близким людям, — рассуждает она. — Что-то придется продать, чтобы издать альбом-каталог, о котором он так мечтал»...
Людмила Дмитриевна ненадолго оторвалась от своей важной и немного печальной работы и заговорила о Нём:
— Нам с мужем очень нравились эти стихи Пушкина:
Не для житейского волненья.
Не для корысти, не для битв.
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв…
— Красиво. Так и хотелось бы жить, — продолжает Людмила Дмитриевна. — Да вот не получается, чтобы только для сладких звуков… И все-таки в жизни главное — это понимание. Если бы люди друг друга больше слушали, чаще смотрели бы друг другу в глаза, воспринимали бы друг друга через картины, через музыку, наверное, была бы другая, более гармоничная жизнь. Мне кажется, мы с мужем понимали друг друга. Вот поэтому и прожили в согласии все 47 лет. Детей у нас не было. Впрочем, он к своим картинам относился как к рожденным в муках, но долгожданным детям. Многие рождались на моих глазах или после наших бесед и разговоров. Помню, он случайно рассказал мне, как с покоса родители привезли ему землянику в чашке. Я говорю: «Какая могла бы картина получиться…». А через месяц он показал мне «Земляничку».
— А кого из животных на его холстах вы больше любите?
— Наверное, ближе всего лошади. И не только потому, что они, как и он, трудяги. У Дмитрия Сергеевича всегда все крутилось вокруг какой-то мысли. Однажды он вычитал у Достоевского: «Русский мальчик родится уже с лошадкой». И так с этой мыслью сроднился, что она всю жизнь его сопровождала. Как посмотрю на его картину «Три лошадки у храма», так душу и защемит…
— Часто приходилось видеть, как он работает?
— К сожалению, не так часто, как хотелось бы. Однако я очень ценила, когда он говорил: «Сегодня можешь прийти посмотреть». Как он работал? Неистово. Или, как он сам всегда говорил: «Я работаю, закусив удила…».
— Вы рассказывали, как однажды спросили его: «Что такое искусство?».
— Да, это было за чаепитием в середине 80-х годов. Мы часто разговаривали об искусстве. О чем еще можно говорить взахлеб в семье художника? Он долго молчал. А потом говорит: «Я не знаю, что такое искусство. Но что — не искусство, знаю. Это то, что точно направлено по адресу…». Меня эта фраза так поразила, что я ее в тот же день записала.
— Часто делали такие записи? Ведь он был художник-философ.
— Теперь жалею, что часто не получалось. Но вот, разбирая мастерскую после его ухода, нашла столько интересных его «почеркушек», записей. Ну, например, о нравственности. У него написано: «Нравственность? Не разорять другие гнезда, быть Человеком. Распри — безнравственны…».
— Людмила Дмитриевна, а что было сначала: ваша влюблённость в него как в человека или как в художника?
— Ну, конечно, как в человека. Мы познакомились на лыжной прогулке. Он замечательно спускался с гор — просто летел. А потом его улыбка — необыкновенно ясная, искренняя, красивая. А что он — художник, я и не знала. Он тогда был еще студентом. Самый первый раз я увидела его дипломную работу по Андрею Платонову, эскизы, которые он почему-то безжалостно рвал. Я пыталась спасти, а он говорил: «Нет-нет, это надо порвать. Это плохо…». Он и впоследствии так же строго подходил к своим работам.
— Вы сразу почувствовали в нём настоящего художника? Ведь он же не был реалистом, не был, может быть, понятен многим…
— Как ни странно, сразу. Он отличался уже тогда от всех художников. Своим оригинальным видением мира. И неистовостью. Скорее всего, я оценила в нем эту неистовость. Его индивидуальность проявлялась во всем.
И еще: он был очень добрый, хоть и жизнь у него была нелегкой. И чистый. За это я его называла Родничок.
Сейчас главное — сохранить его работы. Оказалось, так много интересных, новых, которые даже я не видела. Так, два своих портрета увидела впервые. Это как подарок для меня…
— Дмитрий Сергеевич не только живопись, он русский язык очень чувствовал, недаром давал такие оригинальные названия своим работам.
— Русский язык он действительно по-особенному чувствовал. Поэтому так понимал Платонова, иллюстрировал его. А мне, пожалуй, это еще предстоит. Благодаря его графике, живописи. Вот сейчас Платонова снова перечитываю...
Альбом произведений Дмитрия Кондратьева Людмила Дмитриевна все-таки издала, и он уже вышел в свет — очень красивый. Картины снимал известный в Великом Новгороде фотохудожник Александр Орлов, над макетом работал тоже он. «Дмитрий Сергеевич остался бы доволен», — сказала она мне. И подарила альбом. На память о Нём.
Татьяна ЗОЗУЛЕНКО
Фото автора