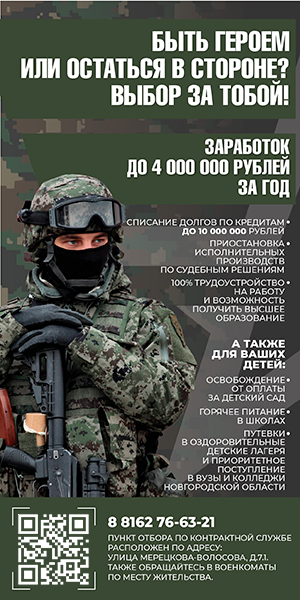К 170-летию со дня рождения Анатолия Константиновича Лядова
Как много значит для нашей культуры русская усадьба. Невероятное количество мест, к которым питали сердечную привязанность и которыми вдохновлялись литераторы, художники и музыканты. В этом ряду наши Онег и Полыновка.
Как Рахманинов для Новгорода, так Лядов для Боровичей. Его имя носит Детская школа искусств, в прошлом году отметившая 80-летие. С 1990 года в Боровичах проходит фестиваль искусств имени А.К. Лядова.
Увы, Полыновки, какой её знал и любил Анатолий Константинович, нет. Но эти места наполнены вечными звуками созданной здесь музыки. Например, прообразом «Волшебного озера», одного из известнейших произведений композитора, послужило любимое им озеро Дуденево в окрестностях Боровичей.
В музыкальной традиции
Благодаря поискам Игоря Прохорова, главного редактора «Музыкального журнала», исследователя династии Лядовых, первым музыкантом в роду сегодня считается гобоист лейб-гвардии Преображенского полка Григорий Лядов, прадед композитора. Дед Анатолия Константиновича был скрипачом и дирижёром придворного оркестра и Русской оперной труппы, а отец — композитором и главным дирижёром Императорской Русской оперной труппы, первым главным дирижёром Мариинского театра. Неудивительно, что к 8 годам мальчик уже изучил нотную грамоту, играл на фортепиано и скрипке, знал наизусть многие оперные арии.
В 1867 году, в 12 лет, он поступил в Петербургскую консерваторию. Однако в какой-то момент юноша неожиданно охладел к учёбе и был отчислен. К большому огорчению своего наставника — композитора Римского-Корсакова, видевшего в нём продолжателя русской музыкальной традиции. Спустя два года Лядову удалось восстановиться. Получив образование, в дальнейшем он сам стал преподавателем, профессором консерватории. Среди его учеников были Сергей Прокофьев и Михаил Гнесин.
«Подходил он к инструменту медленно и внутренне-торжественно, садился тяжело и просто, скромно и незаметно клал красивые руки на клавиатуру. Это не было прикосновение виртуоза-техника, это не был полуневрастенический, полуэкстатический налёт Скрябина, это было эпически-спокойное, мощное приближение властелина к своему царству. (…) Ни одним мускулом не двинет больше, чем это строго необходимо. Почти не видно, как подымаются и опускаются пальцы. Глядишь и не понимаешь, откуда звуки. Катятся по мощному бархату низов ослепительные бисеринки верхов. Сказочной нежности, былинной силы рождаются звуки. Дивно смотреть на движение рук по клавишам. Легки, уверенны и любовны они, иной раз как будто небрежны на вид, но изумительно внимательны и чисты на деле. Невероятной кажется восточная роскошь звуков – из таких простых сочетаний она сплетается. Силы света, силы тьмы одинаково подвластны были этим рукам».
Из воспоминаний об Анатолии Лядове его друга, поэта Сергея ГОРОДЕЦКОГО
Полыновское лето
Боровичи были знакомы Лядову с детских лет, когда он подолгу гостил в имении тёти. Сердечная привязанность к здешним местам сохранится у него на всю жизнь.
Из письма сестре Валентине, июль 1881 года: «Ну теперь уж скоро и увидимся. Мало уже осталось: один месяц с днями. Я теперь представляю себе, как буду скучать по приезде в Петербург. Милая, милая деревня, как я люблю её!..»
Здесь, в любимом краю, он встретил свою любовь. Летом 1883 года Анатолий с кузеном Константином прогуливался из Благодатного в Горушку и возле Полыновки увидел в саду девушек, игравших в крокет. Одной из них была Надежда Толкачёва. Анатолий стал бывать у помещиков Толкачёвых в гостях. И вскоре попросил руки их дочери. Приданым Надежды стала Полыновка. В этой усадьбе на протяжении нескольких десятилетий Анатолий Константинович проводил лето.
Константин Антипов, двоюродный брат композитора, вспоминал, что Анатолий Константинович был очень приветлив с крестьянами, а с одной семьёй особенно сблизился — ходил к Ивану Громову «разговаривать».
Как-то Антипов нашёл Лядова в комнате старающимся поднять с колен погорельца, которому только что дал десять рублей: «Надо сказать, это были последние деньги, оставленные на дорогу».
О человеке Лядове говорят его слова: «Не «низшую братию» надо презирать, а подлую мёртвую «улицу» и мещанство». Или: «Любовь во всех видах и формах — мой воздух, мой хлеб, моя вода».
В его переписке с близкими и друзьями часто можно прочесть о том, как он соскучился по своей Полыновке. Как в этом письме Митрофану Беляеву (меценат, создатель «Беляевского кружка», объединившего многих выдающихся музыкантов своего времени): «Я ужасно устал… Сегодня выезжаю из Петербурга, как только приеду в деревню, сразу примусь за дело…»
«В русской музыке 19 века – начала 20 века не так много композиторов, чьё авторство можно определить безошибочно и при этом чьи глубинные связи именно с русской культурой ни с чем не спутаешь; и Лядов — один из этих немногих композиторов. Он вошёл в историю русской музыки как признанный мастер миниатюры. Многие его произведения являются шедеврами и исполняются по всему миру. Музыкальное наследие А.К. Лядова включает 67 нумерованных опусов и около 20 ненумерованных: произведения для фортепиано (примерно две трети от общего числа сочинений, самые известные — «Бирюльки», «Музыкальная табакерка», Вариации на тему Глинки, Вариации на народную польскую тему, Баркарола, «Куколки», прелюдии), симфонические произведения («Волшебное озеро», «Восемь русских народных песен», «Баба-яга», «Кикимора», «Про старину» и др.), вокальная музыка (включая три цикла детских песен на народные слова). Сделал около 200 обработок русских народных песен».
Из статьи Игоря ПРОХОРОВА «А.К. Лядов и Боровичский край»
«Всё в тебе светло»
Творчество Лядова высоко ценили Цезарь Кюи, Милий Балакирев, Александр Глазунов, Пётр Чайковский. К слову, в фондах Музея истории города Боровичи и Боровичского края есть фотопортрет Петра Ильича с дарственной надписью Лядову. Любили его не только за музыку. «Ты — тихий, ровный свет, — писал ему Модест Чайковский. — Всё в тебе светло: и человек, и художник».
Да, от Лядова ждали большего — по жанру, просто по размеру творчества. Сказал же Кюи: «При его таланте, при его технике его творчество должно было бы кипеть…» А он не был кипуч. Но то «малое», что делал, оттачивал до совершенства. И, будто отвечая на сложившееся о нём мнение, говорил: «Я ведь просто Лядов. Только музыкант Лядов. И хочу жить в сказке. А остальное всё мне чуждо, к моему стыду».
Ироничный. Шутливый: «Ваш Акалядов», «Лорд Отскукистон». Печальный: «Как мало людей, с которыми можно поговорить «по душе». Неимоверно талантливый: прекрасно рисовал, имел дар слова. Но там, в литературе, была недосягаемая вершина: «О, Пушкин! Пушкин! Вечный, лучезарный, свободный художник… Вот перед кем могу стоять на коленях».
В последних своих сочинениях он обратился к духовной музыке, написав «Ежечасную молитву святителя Иосафа Горленко» и сборник «Десять переложений из Обихода».
...Анатолий Константинович Лядов. Родился 12 мая 1855 года в Петербурге, умер 15 августа 1914-го в усадьбе Полыновка Боровичского уезда.
* * *
В Боровичском музее сейчас проходит выставка «Лядовы на Боровичской земле». Музейная коллекция включает в себя много материалов, связанных с Анатолием Лядовым, в том числе семейные фотографии, открытки, письма, детские рисунки сыновей. Есть составленный двоюродной сестрой композитора Ольгой Корсакевич сборник стихов Лядова и её рукопись «Личность А.К. Лядова», а также около 40 живописных работ Михаила Лядова, сына Анатолия Константиновича.
Но теперь, в канун 170-летия выдающегося русского композитора, в Боровичах состоится, можно сказать, уникальное событие. Впервые музею удалось собрать потомков династии Лядовых. А это — большой творческий коллектив. Приедут художники, музыканты. И зазвучит, может быть, главный музейный лядовский экспонат — пианино «Мюльбах» из Полыновки.
Встреча пройдёт 19 апреля.