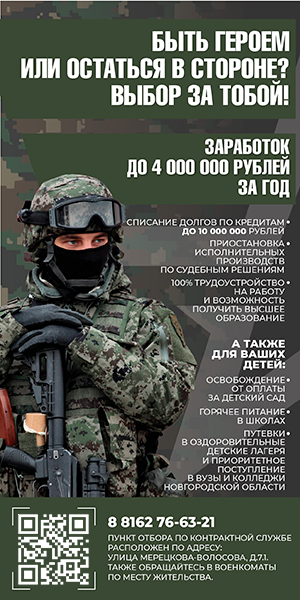Жил-был художник один
Пустовойтов был не просто талантливым местным художником, одним из многих, он — явление особого порядка, новгородская легенда второй половины XX века. С 1951 года обитал этот странный живописец-бессребреник в своем любимом городе, где он, казалось, знал всех и каждого и где каждый знал его. Что, впрочем, неудивительно: когда он приехал, Новгород еще только восстанавливал после войны свое население. Всем друзьям, знакомым и малознакомым людям с удивительной щедростью раздаривал Пустовойтов свои акварели. А сюжет тех акварелей всегда был один — Новгородский Храм.
Рисовал художник новгородские церкви и соборы всегда и в любую погоду. Трудно представить себе работу над акварелью, к примеру, в лютый мороз или под проливным дождем, но — как уверяют многие очевидцы — частенько случалось и такое. Была, разумеется, в его биографии и масляная живопись, однако именно акварель обусловила феномен пустовойтовского творчества. В ней Семен Иванович состоялся как художник истинный и неповторимый. «Неповторимый» — не мое определение: еще академик Лихачев, по свидетельству Владимира Ивановича Поветкина, утверждал, что «работы Пустовойтова скопировать невозможно». Храм у него — не просто архитектурное сооружение или деталь городского пейзажа, художник умел поднять его до уровня образа обобщенного и одухотворенного. Галерея пустовойтовских храмов — это многоликий портрет Новгорода. Не современного и даже не древнего, а сущностный портрет святого города в его трагическом величии.
Пустовойтов совершенно не умел халтурить. Согласно преданию, даже в серию своих работ, изначально обреченную кинорежиссером Салтыковым на сожжение перед камерой, он вложил души не меньше, чем в прочие. И душу эту, как уже упоминалось, он раздавал направо-налево, не скупясь, причем хватило ее не только на весь Новгород, но, как выяснилось, и на самое дальнее зарубежье…
— Где оценить ее, душу, конечно, сумели по достоинству! — съязвил счастливый владелец вожделенной акварели.
Америка сняла эмбарго!
Тут бы Мантейфелю, вообще-то, радоваться следовало, а не иронизировать: оценили б по достоинству творчество художника — век бы ему той акварели не видать.
А началась эта удивительная история минувшим жарким летом, когда позвонил знакомый и сообщил, что в Америке кто-то продает картину Пустовойтова через Интернет.
Чуждый новым технологиям Сергей Борисович тут же позвонил сыну Дмитрию, и тот, наведавшись в сеть, подтвердил существование требуемого сайта и наличие на нем выставленной на продажу акварели. Заметил только, что то ли сама акварель заляпана пятнами, то ли на снимке ее подали столь бездарно. Впрочем, возможно, там и в самом деле какой-то дефект, поскольку цена…
— Цену невероятную заломили: целых 700 рублей! Нашими, сегодняшними рублями! — аж захлебнулся возмущением Сергей Борисович. — Сразу видно, что человек не знает ни художника, ни цены его работ, что не дорога ему ни Россия, ни Новгород, ни его архитектура.
— А продавал кто?
— Анонимно продавали, никаких фамилий указано не было. Можно предположить, что некто, уезжая из страны, прихватил вместе с прочим имуществом и эту невесть откуда взявшуюся акварель. А там, в Америке, она оказалась ненужной — вот и решили от нее избавиться, да при этом хоть копейки какие-то получить.
— Так ведь хорошо, что копейки, а не доллары — радоваться надо!
— Обрадовался я, конечно. Да рано. Как Дима сообщил мне, продавец сделал существенную оговорку: он готов продать картину кому угодно и куда угодно, но только не в Россию.
С этого момента начался дипломатический этап сделки: нужно было договариваться, для чего требовалось, как минимум, знание языка. Пришлось продвинуться по родовому древу еще на один уровень и подключить к процессу внука Александра. Уж на каком языке и с помощью каких аргументов уламывал тот заокеанского русофоба снять унизительное эмбарго — ему одному ведомо. Главное — получилось: владелец согласился продать акварель в Россию. Но за это повысил цену еще на 200 рублей. Смешно, конечно, хотя в пересчете на проценты звучит весьма даже солидно.
— Куплена картина была 5 июля, а уже 6 августа появилась в этой квартире, — подытожил Сергей Борисович. — Прислали ее, как я и просил, не скрученную рулоном, а вот в этом большущем твердом конверте. Она оказалась чистенькой, без тех жутких пятен, что показаны в Интернете на снимке.
— Интересно, много еще таких листов по миру гуляет?
— Тысячи! А сколько из них погибло — и подумать страшно!
Гудящее слово «Новгород»
Однако радость от встречи с акварелью объяснялась не одними только ее художественными достоинствами: для Сергея Борисовича она — еще и драгоценное напоминание о талантливом человеке, с которым он лично был знаком. Причем «знаком» — слабо сказано.
— Я знал его с 1951 года, с первых же дней его пребывания в Новгороде, — вспоминает Мантейфель. — Приехав сюда, он сразу отправился в музей. Там познакомился с моим отцом, Борисом Константиновичем, и уже вместе они пришли к нам домой, в Никитский корпус, где мы тогда жили. И с этого момента он стал приходить к нам постоянно как человек, сразу ставший родным, ожидаемым, любимым, которого всегда хотелось и видеть, и слышать.
— Можно ли сказать, что вы дружили?
— Думаю, да. Хотя за четыре с половиной десятилетия и размолвки случались, без этого не бывает. Семен Иванович был старше меня на 16 лет, он ведь и войну прошел.
Помнится, в одной из статей, посвященных художнику, обнаружил я следующий пассаж: «В годы войны Семен Иванович Пустовойтов оказался на новгородской земле. Это была первая встреча с древним Новгородом. Памятники архитектуры этого города произвели на С.И. Пустовойтова такое сильное впечатление, что после учебы он решил сюда вернуться». Сразу вопрос возник, даже два. Во-первых, какой такой архитектурой в Новгороде времен войны можно было «впечатлиться», если вся эта архитектура начисто была сметена артобстрелами и бомбежками? И, во-вторых, на каком этапе войны Пустовойтов мог в Новгороде побывать? В освобождении города он, как известно, не участвовал, после освобождения действующим частям входить в город не было смысла. Остается, правда, еще период до освобождения, но посетить Новгород тогда он мог бы только в качестве военнопленного, а такого эпизода в биографии художника тоже вроде бы не было.
— Ерунда это всё, — прокомментировал Сергей Борисович, — чушь и бред! Семен Иванович, по его же свидетельству, «прополз по-пластунски» от Москвы до Холма, но в Новгороде до 1951 года, конечно, не бывал. В 44-м он был страшно, чудовищно контужен, потерял всё: зрение, дар речи, слух, память — живой труп! В госпитале под Калининым его сочли безнадежным и перевезли в родную Одессу, в дом для умалишенных под названием «Слободка». Но спустя года два, когда все уже окончательно уверовали, что он пожизненно обречен на бессознательное прозябание, к нему вдруг всё вернулось: и речь, и слух, и зрение, и память, и способность мыслить. Он закончил художественное училище, в которое поступил еще до войны, и только после этого впервые приехал в Новгород.
— Что же его сюда так влекло, если не помянутые «впечатления об архитектуре»?
— Впечатления другие были, еще отроческие: по книгам о русской истории, по былинам. Кстати, и дипломной работой его стал большой холст «Вольга и Микула Селянинович» по былинному сюжету. А потом однажды как внутренний голос какой-то позвал, как колокол прозвучало в голове «гудящее слово «Новгород». Я точно помню эту фразу из его письма.
Писем этих у Сергея Борисовича — целый архив, драгоценный не только содержанием своим, но и оформлением. Из одних только конвертов можно было бы устроить выставку, посвященную особому жанру пустовойтовского творчества — своеобразной почтовой графике. На каждом конверте пером или шариковой ручкой нарисован новгородский храм, каждый конверт — неповторимое, единственное в своем роде произведение искусства.
Одно лишь непонятно: как Сергей Борисович при такой любви к творчеству Пустовойтова, при таком понимании его личности и знании его жизни, не посвятил ему в своей книге «Бегство из погибели» ни единой строчки?
Родом из музея
Эта книга вышла в свет стараниями, энергией и финансированием нашего известного мецената Александра Одинокова. Жанр — воспоминания, стихи. Представлен Сергей Борисович здесь еще и в третьей ипостаси — как художник, но четыре его акварели поданы весьма скромно, почти незаметно. Стихов значительно больше, но и они носят скорее подчиненный характер, являя собой поэтические размышления автора на заданные в воспоминаниях темы. Поэтому говорить следует прежде всего о собственно воспоминаниях.
Книга выстроена в духе мемуарных традиций: довоенное младенчество в Новгороде, детство в кировской эвакуации, кремлевские отрочество и юность. В ней нет дневниковой непрерывности, хотя соблюдена хронология. Главное же место отдано самым ярким впечатлениям о людях, событиях, времени. Написано все человеком, который, безусловно, владеет словом, не без некоторой даже художественности. Наиболее же заметной особенностью этих воспоминаний я бы назвал резкую и даже, может быть, умышленно подчеркнутую контрастность.
Разумеется, ни один из мемуаристов не может быть до конца непредвзятым, но, как правило, претензия на объективность в их оценках все же присутствует. Сергей же Борисович отметает все компромиссы изначально. Где он говорит о дорогих ему людях, о любимом деле или о светлых минутах своей жизни — там и слог идиллический, и юмор мягкий, и поэзии не меньше, чем в приведенных рядом стихах. Но горе всему тому, что оказалось по другую сторону композиции: тут уж автор не жалеет ни громов, ни молний, ни эпитетов. Крайности эти соседствуют бок о бок и порою даже переплетаются, поднимая эмоциональный накал до не свойственных мемуарам высот. Уместно даже предположить, что авторский максимализм здесь используется как сознательный и запланированный литературный ход.
— Книга вообще не планировалась, — возразил Сергей Борисович, — ее появление на свет — исключительно заслуга Одинокова. Я специально для нее и строчки не написал: всё, что вошло в книгу, уже было написано много лет назад, оставалось всего лишь собрать.
Впрочем, в этой книге важнее не зависящие от эмоций и трактовок факты. А уж к фактам Мантейфель, по его же выражению, происходящий «родом из музея», с детства приучен относиться свято и трепетно. Так что документальная ценность этих воспоминаний бесспорна.
И все же как так вышло, что фамилия Пустовойтова упомянута в книге лишь дважды, да и то вскользь, в контексте совершенно иных сюжетов?
— Семен Иванович Пустовойтов — отдельная, большая тема, — объясняет Сергей Борисович. — Если собрать то, что у меня о нем уже написано, книга получилась бы пообъемнее этой.
— То есть можно надеяться, что она тоже появится когда-нибудь?
— Дай-то Бог, — отозвался автор не очень уверенно.
Чуть севернее
Минувший год, таким образом, ознаменовался в жизни Сергея Борисовича двумя выдающимися событиями: чудесным обретением заморской акварели и выходом долгожданной книги в свет. Отрадно, что двумя, а не одним. Но еще лучше было бы, если б тремя — для полноты сюжета, как это принято в жанрах народного творчества, в анекдотах и сказках. Неужели ж за весь 2010 год не припомнится какого-нибудь еще третьего сбывшегося желания, пусть бы и менее грандиозного?
— Не знаю даже. Разве что вот это, — сказал Сергей Борисович, протянув мне книжку небольшого формата в мягком переплете.
Книга оказалась воспоминаниями Порфиридова, выпущенными в Лениздате довольно большим тиражом. Хорошая книга, нужная, в Новгороде известная, но что в ней особенного? Ведь и вышла почти уж четверть века назад, и приобретена явно не в Америке, а в букинистическом отделе каком-нибудь…
— Смеяться будете, но приобретена она по Интернету, как и акварель, — говорит Мантейфель. — И за те же примерно деньги. И в той же, представьте, Америке. Только не в Штатах, а чуть посевернее — в Канаде.
Вырос в семье русских интеллигентов: мать Антонина Михайловна — художница, отец Борис Константинович — ученый с широчайшим кругом интересов (метеоролог, археолог, реставратор, орнитолог, краевед и т.д.), член 32 научных обществ. Оба родителя начали работать в Новгородском музее еще до войны. Когда она началась, вместе с сослуживцами подготовили к эвакуации и сопровождали последний эшелон с музейными сокровищами, чудом вырвавшийся из осажденного города.
После трех голодных лет эвакуации семилетний Сергей Мантейфель вернулся в Новгород. Жизнь с родителями в разрушенном кремле сделала его свидетелем послевоенного возрождения музея. Трудился в нем он и сам — по сей день в экспозиции древнерусского искусства и в главном иконостасе Софийского собора можно видеть отреставрированные им иконы.
Помимо реставрации Сергей Борисович перепробовал множество профессий — на заводах, предприятиях, даже на речном флоте. Однако подлинное свое призвание он всегда видел в литературном творчестве. Им Мантейфель занимался всю жизнь.