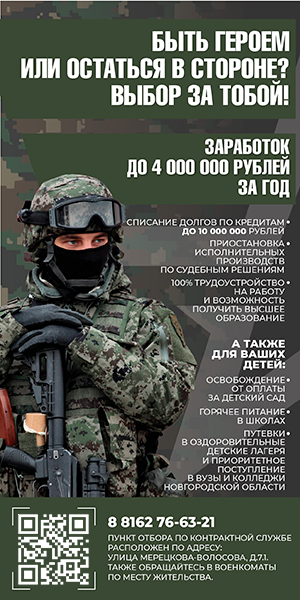Походные заметки из Долины Смерти. Послесловие
Небо, затянутое низкими, рваными, как старая деревенская дерюга, облаками, серый день. Струи дождя как будто подвешены от облаков к зеленой плоти земли. Тишина глубокая, мирная, звенящая тишина, в которой слышен звук каждой падающей капли. Этот звук превращается в тихий шелест, который стоит в ушах, как шелест покрывала, укутывающего землю, и только резкий звук падающей в лесу ветки нарушает этот шелест. Темная, почти черная вода реки Кересть своим течением напоминает Вечность.
Тишина... Нахохлившись, на разлапистых ветвях древней ели, чудом уцелевшей у бывшей фронтовой дороги, сидит старый ворон. Он много видел, и здесь его дом. С мудростью старца, с высоты ели и возраста, умными бусинами иссиня-черных глаз он смотрит на воды Керести, на испуганно замершего молодого лося, прислушивающегося к появившемуся вдалеке незнакомому ему звуку. Звук усилился, лось дернулся и рванул в чащу, своей немалой тушей ломая сухие ветки. Даже старый ворон насторожился, в глубинах своей памяти он искал сходство этому звуку, он слышал этот звук, но очень давно. Где, когда? Настороженно повернув в сторону дороги голову, он вспоминал, что несет с собой этот звук. На всякий случай, тяжело взмахнув крыльями, перелетев выше, он ждал.
Звук из звона перешел в грохот, а потом — в рев, и на старую фронтовую дорогу выполз танк. Следом, пробивая колею и наматывая на широкие гусеницы корни молодых осин, а лобовой броней сминая кустарник, поводя длинным стволом орудия, как бы принюхиваясь, — второй. Старый ворон вспомнил: он это слышал и видел здесь же, но очень давно, в своей юности, 75 лет назад. Танки, чуть задержавшись, прошли вперед, за ними, как маленькие зеленые черепашки, прокатились две юркие, шустрые танкетки, а дальше — машины, орудия и строй. Точно такой же, как тогда, давным-давно, когда в этом лесу царил ад, когда вокруг из-за разрывов снарядов осталась только та кривая ель, на которой сейчас и сидел мудрый ворон. Лица людей тогда были те же, молодые, красивые, из-под мокрых, круглых зеленых касок смотрели почти детские глаза, они были полны тревоги и ожидания чего-то. Чего-то важного и чего-то опасного.

Танки и машины выползли на поляну на берегу и, как большие звери, стали устраиваться на ночевку, готовя себе лежбище под деревьями и кустами. Из них выбрались люди в промасленных черных комбинезонах, они укрыли машины маскировочными сетями, и те затихли. А на берегу шла работа, и за несколько часов вырос маленький город, наполненный звуками команд, ревом моторов, задорными молодыми голосами, а иногда — смехом.
22 июня — самый длинный день в году, самый длинный, а для нашей страны — еще и самый страшный. Этот день разделил нашу историю на до и после Великой Отечественной войны, нашу историю, а их, наших дедов и прадедов, — жизни. Живых — жизни, а павших — души. Мы пришли сюда, потревожив старого ворона и эту тишину, чтобы помнить и напомнить тем, кто забыл, что двадцать семь миллионов жизней навсегда были растоптаны этой войной. А почти двести тысяч их осталось здесь, в котле окружения у Мясного Бора, на берегу реки Кересть, и у других тихих, красивых лесных речушек.
Вечер самого длинного дня, дождь, как будто поняв важность и трагичность момента, утих. На горизонте над темными верхушками осин и сосен — кровавая полоса заката, люди в зеленой солдатской форме цепочкой выстроились у крутого берега черной реки. Форма, старая, солдатская, с пилотками и красными звездами, ребристыми черными танкошлемами, фуражками с черными фибровыми козырьками и новая, с точечными разводами пиксельного камуфляжа. Люди, согревая в руках свечи, опускают их на черную воду. Сначала свечи не хотят гореть, но каждый, передавая товарищу слабый огонек маленькой лампадки, на несколько секунд задерживает ее в своих руках, бережно ладонями прикрывая слабый огонек, как бы наполняя его своим теплом и верой, передает лампадку товарищам, и бежит огненный ручеек, опускается на темную воду, и она несет на своих робких волнах мерцающие во тьме огоньки дальше, к бывшим деревням и хуторам, к сожжённым войной домам. Пилотки и каски — долой, взгляды, не по-юношески глубокие, — туда, на мерцающие, уплывающие в темную даль огоньки памяти.
А на следующий день они также стояли над разрытой воронкой, где семьдесят пять лет лежал накрытый солдатской шинелью их ровесник — солдат, погибший в ту далекую и такую близкую им войну, и может, в честь него горела вчера одна из лампадок в огненном ручейке на темной реке.
Потери. Мы в разные времена считали их: людские и экономические, просчитывали демографические, война забирает не только жизни людей, она убивает жизнь в целом, жизни деревень и сел, городов и хуторов, она убивает духовность, уничтожает наследие предков. Кто посчитал, сколько семей после войны не вернулось туда, где жили и умерли их деды? Никто! А ведь сила нашей духовности, она и лежит в могилах предков, в памяти о них, как писал поэт: «дыму отеческих могил». Может, и начался там наш путь в бездуховность? Там, где мы потеряли связь с родной землей, с ее красотой и ее силой. Там, где потеряны дома, построенные еще пращурами, в которых родились прадеды и из которых уходили защищать свое Отечество в разные годы.

За несколько дней Саша Орлов, Серега Степанов и Андрей Кравцов из «Долины» нашли здесь места гибели четырнадцати солдат, их подняли молодые парни и девчонки — участники Марша Памяти, посвященного 75-й годовщине окончания Любанской операции и трагической гибели 2-й Ударной армии, вместе с солдатами из 90-го поискового батальона они вернули их из черной реки небытия своим желанием помнить и не забыть. Я не знаю, что еще они совершат в своей жизни хорошего или плохого, но одно доброе дело в их копилке уже есть — это упокоенные души четырнадцати их ровесников, это их маленький шаг к большой, вечной своей душе и к Богу.
Мы покинули лагерь, оставив на берегу Керести гранитную глыбу с содранным, как человеческая кожа, обнажившая пульсирующее живой кровоточащей плотью сердце, верхним каменным слоем, в центре которого изображен младенец Иисус и надпись: «Мамам и их деткам, погибшим в Любанской операции», но в душах этих молодых людей тоже был содран этот налет бездуховного окаменения. Он был содран и красотой реки, и ночными трелями новгородских соловьев, и рассказами Саши и Светы Орловых, и ребят из «Долины», и ревом танковых дизелей, и пулеметными очередями над рекой, и тяжестью намокшего в карауле ватника, и запахом пороха из патронника еще теплого от стрельбы карабина, и хлябью черной жижи под подошвами кирзовых сапог, и огненным ручейком лампадок, уплывающих в темную бесконечность, как судьбы их ровесников и их прадедов.
И я думаю, я очень надеюсь, что все не зря. Ведь я искренне верю, что память может породить жизнь. Как? Быть может, они вернутся сюда со своими детьми, расскажут им о том, что здесь было, расскажут им о солдатике под шинелью и о том, другом, в стрелковой ячейке у ручья Омутного, расскажут о голубых, чистых, полных такой неописуемой человеческой мудрости и доброты глазах Саши Орлова и перескажут его рассказы об убитых, которых он нашел, покажут им красоту новгородского леса и прекрасный памятник, поставленный их руками. И как знать, может, увидит еще старый мудрый ворон на берегах Керести не танки, а машины с деревянными срубами домов, и старая его ель станет родоначальницей городского парка.
Сергей МАЧИНСКИЙ,
специально для «НВ»
Фото Игоря Свинцова